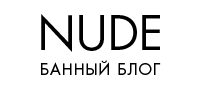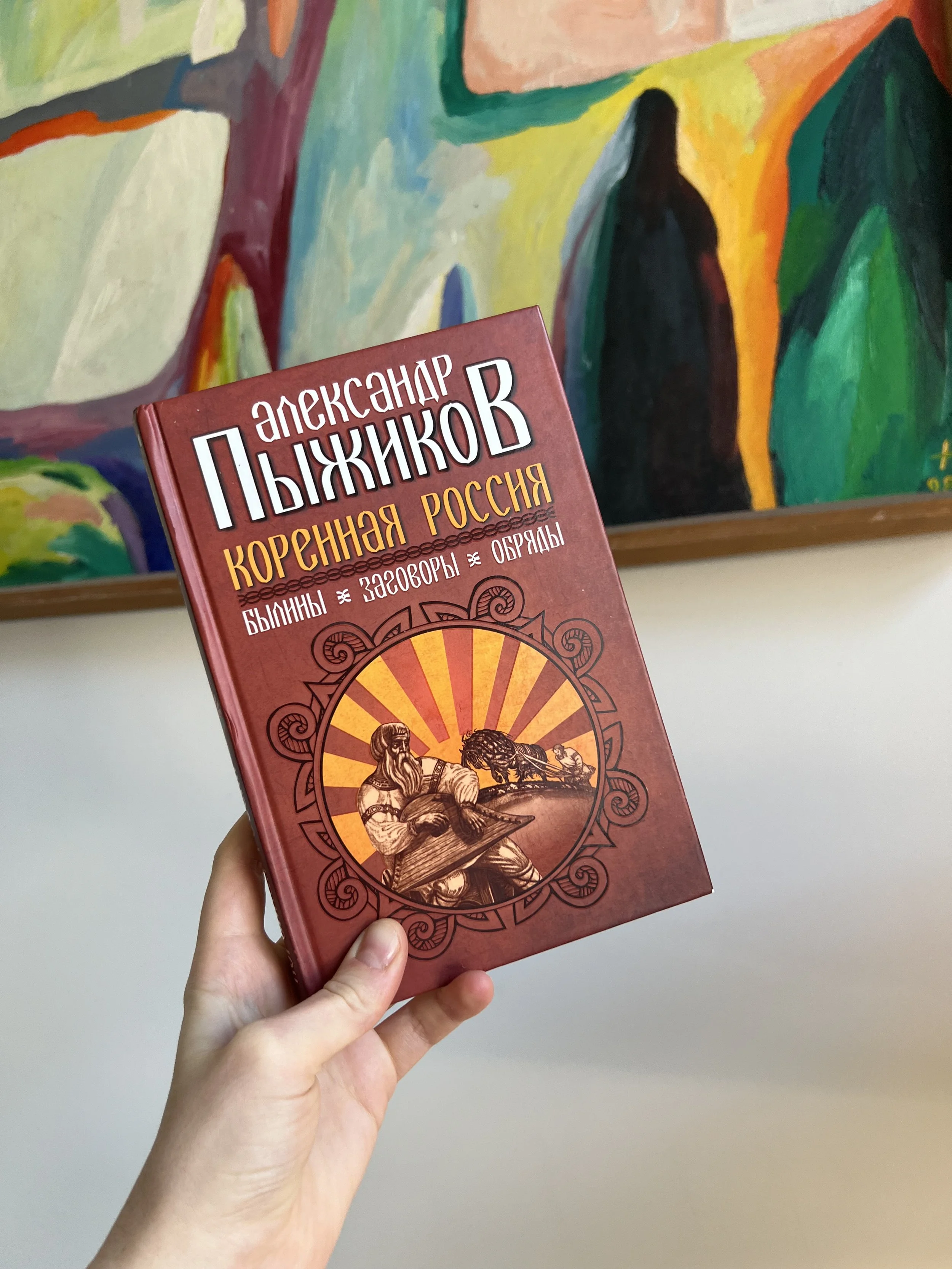Пыжиков. Коренная Россия
Открытие этого года. Лицо и чтиво. Мистер Пыжиков.
Подарок моего старинного друга - мыслителя Саши Сливы.
Все заговоры мои любимые - это базово иное мышление.
Он адепт вибрационно-волновой картины мира.
Все то, что часто происходит в ритуалах в бане сейчас - это отголоски прошлого мировоззрения, которое было вытеснено религией и экономической моделью мира.
Книгой-легендой делюсь.
Можно и лекторий послушать, звучит переодически как инопланетный заговор, однако, принцип жизни в стиле «ветра», а не зарплата - иногда радует больше.
Эти образы и олицетворяли тех, кого называли татарами, т.е. «заложных» покойников, что было абсолютно понятным народному мировоззрению; схожих текстов в известном фольклорном корпусе немало. В правящей же прослойке «татары». Эти образы и олицетворяли тех, кого называли татарами, т.е. «заложных» покойников, что было абсолютно понятным народному мировоззрению; схожих текстов в известном фольклорном корпусе немало. В правящей же прослойке «татары».
Мысль, что мы имеем дело с идущей из глубин веков иной ветвью человеческого общества, оставалась всё же неосвоенной. Это и невозможно без осознания, что поступью от низшего к высшему не определяется и не исчерпывается история. Базовая драматургия заключена в забытом цивилизационном переломе, а точнее в вытеснении меха-нико-материалистическим рационализмом, господствовав-шего ранее вибрационного восприятия мира. Причём это вытеснение носило насильственный характер: оно было сопряжено с обрушением социально-экономического уклада.
Дальше куча цитат из книги, который я для себя фиксировала
Слог и смысл даст ответ: читать или нет.
Он жил в мире символов, смысл которых узнал или опознал. Он напоминал о ветрах русского фольклора, означавших не атмосферные явления, а движение духа.Об Алатырь-камне, на котором происходила трапеза Христа, — но и вместе с этим о мощнейшем дохристианском значении камней вообще: недаром валуны укладывались в основаниях православных храмов. Древние строители зна-ли, что делали, — мы забыли об этом напрочь. Посему, уверял Александр Пыжиков, Алатырь-камень - источник всех ветров, то есть вибраций нашего духа.
Он говорил о том, что Киев — это не просто одна из столиц древнерусского государства, а — в русской былине и в национальной памяти — небесный град, посему, догадываемся мы, стремление русского человека к этому городу иррационально и рационально одновременно. Он рассказывал о повитухах — и сам был повитухой рождения нашего обновлённого духа.
За одно лето 1871 года Гильфердинг исколесил обширный край, ощутив, насколько «огромное большинство живёт ещё вполне под господством эпического миросозерцания..., а в некоторых местах эпическая поэзия и теперь ключом бьёт»?. Вначале он планировал посетить некоторых скази-телей, встретившихся ещё Рыбникову, для уточнения имев-шегося материала. В поездке же ему повезло выйти на местных раскольников, познакомивших с доселе неизвестными крестьянскими рапсодами'. Гильфердинг нередко предпочитал действовать через администрацию или сулил денежное вознаграждение. Местные жители смущались деятель-ного гостя, называя его генералом, начальником, барином*.
Тем не менее тот за пару месяцев сумел заполучить у почти 70 человек (16 из них были известны Рыбникову) ровно 318 старинных песен.
Была былинная память? Если опираться на эпический, а не на церковно-летописный багаж, то картина отечественного прошлого предстаёт довольно непривычно. Многие важные вехи древности каким-то образом прошли совершенно мимо населения. В преданиях нет сведений о варягах, отсутствует там знаменитый Рюрик, призванный княжить, не найдём и героического Святослава, наконец, не сказано ни единого слова о крещении Руси! Не упомянут великий князь Дмитрий Донской, а о Куликовской битве можно найти лишь отголоски в виде нескольких имён, кои лидер исторической школы Миллер считал занесёнными в позднее время и не без книжного влияния?. В то же время в ру-кописях, вышедших из церковных стен, указанные события - узловые; на них без преувеличения держится вся канва повествования. Эти странности купировали татарским нашествием, игом, о чём в преданиях предостаточно свидетельств.
Путаницу же в географических понятиях, именах списали на продолжительность хранения материала в уст-ном виде?. Татары стали незаменимым инструментом, которым пришивали былинное полотно к церковным летописям.
Выражениями «поганая татарва», «проклята Золотая орда», обильно звучащими в песнях, выправляли «изъяны» эпоса.
Поэтому татарским сюжетам устного народного творчества нужно уделить особое внимание.
Орда понимается былинами прежде всего как определённая земля, а не войско, что все чаще утверждают сегод-ня. К примеру, князь Владимир отправляет Илью Муромца в Камену Орду, Добрыню Никитича — в Золотую Орду, Михайло Потыка — в землю Подольскую. Или ещё: «проходил молодец из Орды в Орду, зашёл молодец к королю в Литву»*, «ходил Дунаюшко да из орды в орду, из орды в орАу, да из земли в землю».
Также про Ивана Годиновича: «ездил по всем землям, по всем ордам»®. Т. е. орда фигурирует в былинах в качестве географическом, а не воинском. По летописям над Русью постоянно довлеет угроза с Востока, оттуда с завидным постоянством набегают религиозно чуждые полчища. Народные причитания по адресу татарвы и орды,ставитель Александр Григорьев предпочёл просто выносить неудобные места (к подготовленному им изданию впервые прилагалась нотная тетрадь для исполнения песен'). Тексты его записей максимально вычищены от того, что режет глаз.Практически исчезло название Литвы: если в рыбниковском сборнике оно встречается на каждом шагу, то тут на целый том их набралось чуть более десятка. Так, Иван Грозный уже не женится в поганой Литве, а направляется за невестой просто за сине море да за чисто поле?. Татары, неволящие девиц, сюжетно никак не связаны с морем и кораблями". Неверные подымаются на святую Русь не с западной или юго-запад-ной стороны, а, как положено, из-за Кубань-реки (с юго-вос-тока)*. У князя Владимира вместо литовской родни появляются тридцать три православные дочери: «все они ходили да во Божью Церьковку, все они глядели, да на одну книгу.
Минус былиноведения - прочтение раннего эпоса на современный лад. Хотя не секрет, что сегодняшним индивидам и людям до XV-XVI веков свойственны принципиальные культурологические отличия, основанные на разных типах мышления. В старину циркуляция информационных потоков шла изустно, через вереницу образов; именно в таком мыслительном ключе народ осознавал самого себя и окружающий мир. Тогда как альтернатива, продавливаемая господствующими верхами и церковью, базировалась на абсолютизации книжной словесности, уже сверху утверждая современные культурные коды. Символом просвещения провозглашалась книга, несущая, как несложно догадаться, библейские истины. Устное народное творчество для этой «фаворитки» превращалось в чуждую мишень, куда «она направляла свои сатирические стрелы, как в дикое невежество, которое надобно искоренить».
Так что старинную мудрость — «что записано, то забыто» - не стоит с лёгкостью причислять к абсурду.Проникновение в былинный мир должно руководствоваться мыслью: наши предки — не примитивные первобытные существа, коими их старательно выставляют несколько последних веков. В отличие от научно-культурной просвещенности, они практиковали знания, не соприкасавшиеся с книжной учёностью?. Народный социум не поучал, не наставлял, а буквально дышал своим мировоззрением, объявленным позднее неполноценным, диким. Его взгляды на природу окружающего, на самого человека, на духовность всегда оставались малопонятными, неразличимыми с церковных колоколен или высот рационального познания.
Неслучайно Фёдор Буслаев следующим образом характеризовал киевско-новгородский былинный цикл: «какая-то смутная, фантастическая среда... трудно соотносимая, как с христианством, так и язычеством».
Конечно, это не может не удивлять, поскольку относительно древности в ходу совершенно иные представления на сей счёт. Они определялись греческой античностью, объяснявшей строение и состав мира посредством четырёх не сводимых друг к другу материалистических элементов: огня, воздуха, воды и земли — корней всех вещей!. Христианство дополнило эти основы божественным, синтезируя «мудрость библии и мудрость Афин»?. К четырём элементам прибавилось три духовных (троица): в итоге число семь воплотило в себе материальное и духовное. Из этого семиричного кода выводили семь смертных грехов; семь таинств, им противостоящих; семь планет; семь дней недели; семь тысячелетий истории?. Даже сильный крен в материализм просветительского XVIII века не изменил общей направленности мысли. На этом фоне былины выглядят отголосками, чуждыми научно-просвещенческим, а также библейским истинам. Причём утраченные представления никак нельзя признать примитивными только потому, что под их необычным углом зрения развёртывается малознакомая проекция окружающего. По забытым преданиям небесные ветра (вибрации) являются словом создателя - изречённым и вечным. Они резонируют с землей, «отражаются» в ней, образуя ветра земные, на которых существуют люди.
Обратим внимание, что об этой своеобразной картине мира повествуют калики перехожие. Названные персонажи весьма значимы в былине: их даже именуют «русски-ми могучими богатырями»', они могут «дунуть духом святым своим»?. Одна из функций калик - доставлять мирское (общественное) поручение, знаком чему служила передача «чарочки», «чаши», что символизировало подчинение судьбе. Неслучайно киевская княгиня Апраксия, затевая интри-гу, поручает подбросить каликам «чарочку серебряну», дабы уличить их в краже именно этого предмета, т.е. дискредитировать не только в обыденном, но и в духовном смысле. В случае с Ильёй также происходит передача «чаши», которую тот должен испробовать до дна*. Богатырская сила входит в Илью после «чары питьица медвяного», когда «его сердце разгорелося, его белое тело распотелося», т.е., как раньше говорили, вострепетало. Хотя было бы неправильным считать калик некой «почтой»: по преданиям, они важный элемент напутствия Илье Муромцу. Однако их слова нельзя понимать буквально: повествование здесь имеет в виду явно не обычную лошадь. Интересна догадка Стасо-ва, писавшего о конских головах или, как говорили в народе, «коньках» на крышах изб. Их считали «ничего не стоящими произведениями грубого простонародья, которые не имеют ни смысла, ни значения...»?. Стасов же посмотрел на народный обычай с религиозной стороны, заключая, что первоначальное значение голов наверху крыш было сугубо сакральным?. В прежних представлениях конь осознавал-ся носителем духа, видимо, поэтому-то Илье напутствуют о приобретении жеребёнка калики перехожие, ведающие об этих духовных путях. Понятие о коне символизирует движения и переходы, как из материализованной действительности в духовный мир, т.е. в потустороннее. Если под таким углом зрения взглянуть на былинного коня, то можно обнаружить немало любопытного.
Его описание имеется в «старинах» о наиболее значимых богатырях: Добрыне, Михайле Потыке, Святогоре, Илье Муромце.
Нельзя пройти и мимо такого: Добрыня, отправляясь в путь, обседлал «дедушкова добра коня»', т.е. привлёк родительскую потустороннюю помощь. Подкрепление нашим догадкам о коне можно обнаружить в похоронных плачах, как и былины, пронизанных архаикой. В них также зачастую фигурирует конь, к примеру: «На медный чурбак встану я, высокого коня оседлаю, весь свет объеду кругом» или «крылья-лопа-сти надену я, в поднебесье полечу, хоть на сивого коня сяду..»*. Разумеется, причитания имели в виду не коня, а использовали его образ, говоря о связях с умершими.
Одухотворённый былинный мир своеобразно осознавал проблему добра и зла. Извечная борьба выражена в противостоянии сторонним силам, заявлявшимся на Русь.
Ключ здесь — не событийная окрашенность, всегда заво-раживавшая публику, а яркие мировоззренческие образы, воплощённые в битвах Муромца с поганым Идолищем и Калином-царём. В глазах людей той эпохи эта борьба прел.
Наша версия: под «греческой землёй» имели в виду своеобразный природный «громоотвод», состоявший из земляной смеси с растением, называемым «молодилом кровельным», из южных регионов (Балканы, Малая Азия, Кавказ), т.е. «греческих». По поверью, оно отличалось большой надёжностью, его стебли способны нейтрализовать удары молнии, потому его выращивали на крышах строений, смешивали с верхними покрытиями. По словарю Брокгауза и Ефрона, «молодило» находится под покровительством Зевса (Юпитера), мечущего молнии в тех, кто ему не угоден; «молодило» же громовержец никогда не трогает'. О том, что «шапка земли греческой» не из церковного лексикона, свидетельствует и наличие этого выражения в скандинавских сагах?. Вряд ли эпические предания северных народов вдохновлялись атрибутами греческого монашества.Мотивы Идолища развиваются в схватке Ильи Муромца с Калином-царём, причём данное сказание известно пример-но в восьмидесяти вариантах, что превышает количество песен о других богатырских подвигах.
Впечатление, что татарское присутствие в них всё же не надумано и имеет под собой основание, только более сложное, нежели историческое. Оно связано с утраченным мировоз-зрением, понятием об умерших, но не упокоившихся, что несло явный негативный оттенок. Видимо, этот-то негатив ранние былины и называли «татарами», во всяком случае смысл данного термина тесно увязан именно с мировоззрен-ческой проблематикой. Затем, с наступлением новой эпохи, когда окружающий мир воспринимался совершенно иначе, наименование «татары» утратило первоначальную смыс-ловую образность, прочно вплетясь в реальные историче-ские процессы. Прежняя духовная значимость заменялась, вытеснялась межэтническими связями, становившимися доминирующими. Как княжеско-церковная верхушка, так и население стали именовать «татарами» уже конкретных агрессоров. С той лишь разницей, что память народа запечатлела завоевателей, нагрянувших с Запада (эту самую верхушку), а те книжными летописями «изящно» перенаправляли негатив в противоположную, восточную, сторону.
Для чего часть коренных народов выставили пришельцами, окрестили «проклятыми татарами», используя распростраившийся дух, оставшийся среди людей. Эту проблему, в отли- / чие от наступивших «просвещённых» времён, тогда прекрасно осознавали. «Незваным» же гостем был тот, кто внезапно появлялся, нарушая энергетику (ветра) конкретного социума; такая неожиданность расценивались хуже плохой определён-ности. «Незваные» - те, кто хуже татарина, — это не состоя-щие в круговой поруке, особенно представители правящей го-сударственно-церковной прослойки. Нынешнее же значение поговорки утвердилось в поздние времена. Европейски ориентированные верхи умело прикрывали преступления по уничтожению на нашей земле прошлой цивилизации, конструируя иную историческую реальность, в которой они выглядели при-влекательными, благородными борцами с «татарским злом».
Однако былинные обрывки, дошедшие из народных глубин, сохранили совсем иные отголоски. Вот такую, на наш взгляд, трансформацию длиной в столетия проделала запутанная татарская тематика.
Змей Горыныч - образы, отражающие не историческую со-бытийность, а утраченные мировоззренческие (философские) смыслы. Повторим ещё: былинно-сказочный эпос сосредоточен на наиболее насущной проблеме — нейтрализации «заложного» духа, который в минувшие времена на-зывали «татарами». Именно они, по народным представле-ниям, являлись источником всевозможных дисгармоний, разрушающих природные и человеческие симбиозы.
В подкрепление этой мысли укажем на одну из сказок под названием «Ивашка Приметлев» со всей соответству-ющей атрибутикой: героем, мостом через реку, змеями и т.д. Рассказчица завершила её примечательным пояснением: «хороша сказка, про татарщину в ней сказано»?, хотя по сюжету там велась речь о проделках змеев. Эти образы и олицетворяли тех, кого называли татарами, т.е. «заложных» покойников, что было абсолютно понятным народному мировоззрению; схожих текстов в известном фольклорном корпусе немало. В правящей же прослойке «татары».
Возьмем, к примеру, известный литературный памятник «Казанская история» (1564-1565), сотканный из фрагментов различных летописей, житий святых, т.е. источников сугубо церковного происхожде-ния'. Здесь «татары» - конкретные враги, ненавистники христианства, осевшие в удобном с географической точки зрения месте, где впоследствии возникла Казань. Однако — и это очень примечательно! — ранее там располагалось ло-гово, в котором «возгнездивился змей велик и страшен... а иные змеи около его лежа»?. Когда их пожгли, кстати с помощью какого-то волхва («бесовским действием очертив... полив серою и смолой и зажже огнём»), то от окаянных пошёл «смрад змеиный». После них там воцарился «скверный царь» с гневом великим и «во ярости на христиан»; и всё это ассоциировалось с «верой сарацинской», т.е. мусуль-манством!3 Таким образом, в средневековых книжных художествах змеи и татары не избавились от прежней смыч-ки, только в ином уже историческом ключе.Огромное познавательное значение заложено в были-нах, раскрывающих базовые смыслы ветров земных.
Огромное познавательное значение заложено в былинах, раскрывающих базовые смыслы ветров земных.
Если же отрешиться от подобных находок, то следует исходить из смысловой образности Святогора. Появление могучего богатыря происходит так: «мать-сыра земля коле-блется, тёмные лесушки шатаются, реки из крутых берегов выливаются»?
Эти земные колебания, которые он олице-творяет, значительно мощнее людских, о чём Илье «проязычил конь языком человеческим», после чего тот «спущал коня во чисто поле»?. По сюжету Святогор носит на плече хрустальный ларец, где находится его жена, «такой красавицы на белом свете не видано и не слыхано».
Присутствие жены далеко не случайно. Как видно из записей, она была предназначена для Святогора, о чём пророчествовал некий кузнец, к которому, кстати, его направил Микула Селяни-нович. Этот кузнец, находившийся под дубом, не кто иной, как предсказатель судеб, кои он и плетёт, как нити, связывая между собой. Будущая жена Святогора уже 30 лет дожидается того в гноище, а тело у нее точно еловая кора.
Здесь изображаются конфликты уже по ветрам человеческим, где Муромец - защитник земли русской, коему «смерть в бою не страшна». Большой популярностью пользуется схватка с Соловьём-разбойником, известная в сорока семи вариантах'. Илья бросает вызов противнику, напоминающему татарина (отчество - Рахматович); в одном месте прямо говорится про соловьёву «буйну голову татарскую»?.
Принципиальны строки о перевёрнутых «калиновых мосточках», которые здесь тоже присутствуют. Когда Илья уезжал от родителей, то там он также выкладывал «мост калиновый», ладил «дорожку прямоезжую»*. Причём при упоминании о Калиновом мосте часто фигурирует конь: те же калики, исцелившие Илью, направляют его «к мостику калинову», чтобы «услышать жеребчека». В былине о Соловье Муромец опять-таки «рукой коня повёл, а другой начал мосты мостить, те мосточки калиновы».
Они помогали настраиваться на окружавшие нас ветра, говоря иначе, помогали обращаться к человеческой душе как части духовного мира. Гусли — это своего рода конь, на котором исполнитель и слушатели переносились в иное духовное состояние (в чистое поле). Что касается «бел-горюч кам-ня», то он считался источником всех ветров, о чём пойдёт речь в следующей главе. Садко садился на ветра с гуслями у Ильмень-озера'. Водное пространство тогда мысли-лось как граница между нашим и загробным мирами, среда обитания всякой силы?.
Ассоциировать же «наши формы, изображения, орнаменты с западны-ми» Стасов считал «величайшей ошибкой и заблуждением».
Родства «в действительности вовсе не существует, при рассмотрении более точном кажущееся, призрачное сходство исчезает»*.Вместо него приходит другое, выраженное понятием «дво-еверие». Оно наиболее точно отражает то, что образовалось и просуществовало долгие столетия, «когда христианство и язычество умещались рядом и не вытесняли друг друга и не мешали друг другу существовать,
Приверженцем стасовских идей зарекомендовал себя и еще один зодчий - уроженец Иркутска Андрей Павлинов (1852-1897). В своих научных статьях он постоянно обращается к Стасову, подчеркивая плодотворность идей последнего?. Павлинов развивал одну важную мысль: чем ближе к XIII веку, тем больше в заставках рукописей, в за-главных буквах зарисовок различных животных, а также причудливых орнаментов. Причем рукописное творчество самым тесным образом увязано с подобными изображе-ниями, коими покрыты стены наших древних храмов. Несмотря на позднейшие переделки, эти фрагменты все еще имеются в Дмитриевском соборе во Владимире, в храме Покрова-на-Нерли, еще в большей степени в церкви Св. Георгия в Юрьеве-Польском с рисунками разных животных, включая слонов, и сплошным богатым орнаментом. Более полное представление об этих изображениях можно полу-чить, если обратиться к альбому «Славянский и восточный орнамент по древним и новым рукописям»3. Собранные там зарисовки уцелели лучше, чем настенные: вместе они составляют взаимоувязанное творчество, источник которого не в греческом православии.
Народный эпос не исчерпывается былинами, которые являются наиболее популяризированным сегментом крестьянского творчества. Не менее обширны другие части этого наследия - поговорки, заговоры, сказки, - также давно привлекавшие специалистов. Среди этого массива хотелось бы выделить русские заговоры, хотя наряду с этим термином в ходу были и другие: наговор, оберег, присуш-ка. Александр Блок как-то заметил, что постигнуть душу наших предков можно, лишь вступив «в тёмную область га-даний и заклинаний, в которых больше всего сохранилась древняя сущность чужого для нас ощущения мира»'. Заговоры, как отмечал знаменитый поэт, «оказались той рудой, где блещет золото неподдельной поэзии; то золото, которое обеспечивает книжную «бумажную» поэзию...».
Русская заклинательная традиция — одна из наиболее богатых и разнообразных на территории Евразии. Среди магических обрядов преобладают призванные уберечь, принести какую-либо пользу, а так называемые «чёрные», связанные с порчей, встречаются гораздо реже'. Заговоры органично определяли народные представления об окру-жающем мире и человеке. С помощью них люди издавна поддерживали сакральные нити с природой, пытались воздействовать на жизнь. Заговор — не врачебный рецепт, не молитвенная проповедь, а малопонятные, забытые для современности знаки. Само по себе тайное обладание ими нисколько не выглядело в глазах народа греховным делом, поскольку они были тесно вплетены в повседневный быт, составляя его неотъемлемую часть. Если значимость заговоров для русского человека так или иначе признавалась большинством образованных кругов, то понимания, почему так происходило, было гораздо меньше. Традиционные рас-суждения-ярлыки о приверженности простонародья к суевериям, о не выветренной пока ещё дикости довлели даже над теми, кто искренне жаждал прорваться к сердцевинам народного сознания.
В отличие от былинного эпоса, у заговоров и заклина-ний, кроме научных интересантов, могущественных поли-тических покровителей не находилось. Бурно расцветшую со времён Николая І государственную идеологию «православие, самодержавие, народность» подобное вряд ли мог-до украсить. Славянофилы также не спешили поднимать на щит разновидность народного творчества, где христианские мотивы звучали смутно.
Более глубоко, чем Сахаров, смотрит Даль на происхождение заговоров, делая больший акцент на их схожести между собой у многих народов. Он подразделяет этот вид фольклора на три категории: возникшие в глубокой древности поверья; родившиеся у отдельного народа, а затем распространившиеся на другие; и образованные на местной почве'. Весомую часть заговоров Даль относит к чудским племенам, издавна проживавшим на территории, где потом раскинется Россия.
Кроме того, упоминает о знахарях северной полосы, отличавшихся, по его мнению, неприкрытой злобою: «нигде не услышите вы столько о порче, как на нашем Севере...»?
А вот в юго-западных поверьях дело обстоит иначе: там минимум негатива, зато больше поэзии, сказки, даже забавы?. Вообще из всего комплекса суеверий, как заявляет Даль, заговор составляет самый загадочный предмет, где чувствуется недостаточность и неполнота наших сведений: «Всякому, кто займёт-ся подобными исследованиями, на деле легко убедиться, что тут кроется не один лишь обман, а ещё что-нибудь другое»*.С конца 1840-1850-х годов на страницах «толстых» журналов начинают регулярно помещаться русские заклинания.
Отметим статью тогда ещё начинающего этнографа Степана Гуляева (1805-1888). Выходцу из простой семьи Алтая, переехавшему в Петербург, профессиональный вкус к этнографическим и фольклорным поискам прививает известный учёный той поры Измаил Срезневский.
«Движущей силой» заговоров Афанасьев рассматривал слово: оно может воздействовать на стихии, творить урожаи и бесплодие, даровать здоровье, прогонять болезни, т.е. производить чудеса, подчиняя воле заклинателя благотворные и зловредные влияния обожествлённой природы*. На-пример, отсюда произрастало верование, до сих пор живучее у всех индоевропейских народов о практической действен-ности доброго пожелания, приветствия". В то же время воз-вышенное отношение к заговорному слову Афанасьев назы-
жавших заговорные тексты: во время сорядов они пропо-носились по памяти, а исполнитель старался точнее придерживаться записанного. Письменная фиксация неизбежно приводила к заимствованиям из книжных источников, что по сравнению с другими видами фольклора наиболее затронуло именно заклинания, сосуществовавшие в XVII-XIX веках как в рукописной, так и устной форме". Ещё одним ав-тором, отметившимся на мифологической ниве, был Пётр Иващенко (1846-1897). Он разрабатывал такую сторону заговорной практики, как «шептания», ведь подавляющее большинство заклинаний именно нашёптывалось. Из такой формы «вымолвления», имевшей в низах какую-то таинственную силу, образовался целый ряд заговоров.
Из приметы рождается чара, а из чары заговор: если чара — это примета, выраженная в действии, то заговор — это словесно выраженная чара, «словесное изображение сравнения». Как писал Потебня, «действие, сопровождающее заговор, представляет простейшую форму чар».
Присоединение словесно выраженной чары к обрядовому действию даёт на выходе заговор?. Иначе говоря, сравнение, ассоциация, примета являются кирпичиками, на которых психологическая школа строила своё понимание заговоров.
Здесь исходили из формальных элементов, из морфологиче-ской структуры, отодвигая на второй план конкретное эт-нографическое содержание. Вот, к примеру, одно из рассуж-дений, которыми Потебня иллюстрирует свои построения:
«Человек замечает, что сучок в сосне засыхает и выпадает и что подобно этому в чирье засыхает и выпадает стержень.
Первое приводит ему на мысль второе и наоборот... поэтому он берёт сухой сук, сам собою выпавший из дерева, для укрепления связи сука с чирьем очерчивает суком чирей и говорит — «как сохнет сук, так сохни чирей»3.
Некоторые исследователи подспудно ощущали в эпи-ческих отзвуках, дошедших до нас, чего-то неизведанное, ускользающее. К примеру, тот же Фёдор Буслаев указывал на загадочность эпоса, который трудно прояснить в русле западных научных школ. Не раз и не два мы сталкиваемся в его трудах с такой оценкой фольклора: «какая-то смутная, фантастическая среда, в которой с именами и предметами христианского мира соединялось нечто другое...»". Любопытна и статья Александра Афанасьева «О загробной жизни по славянским преданиям» (1861). В ней отмечено переплетение древнего понятия о душе с идеей ветра, что отразилось в языке, в словах, происходящих от одного кор-ня: дышать, воздыхать, дух, дуновение?. Он как бы интуитивно чувствовал: под ветрами подразумевается не атмос-ферное явление, а нечто сакральное, выраженное, например, поговоркой «ветр — божий дух» или сказаниями о «Голу-биной книге», по которым ветра исходят от святого духа?.
К сожалению, это верное наблюдение не получило развития.
В заговорных текстах, известных на сегодняшний день, этот камень упоминается сотни раз — на порядки чаще, чем что-либо или кто-либо*. Попытки прояснить, что же это всё-таки означает, породили немало разнообразных вер-сий. Одна из распространённых: под ним разумеется янтарь, который ещё древние греки и римляне считали целебным, носили в качестве амулетов. Алатырь-камень также наделя-ли чудодейственной силой против различных недутов, а потому его сближение с янтарём, помимо звучания, представ-лялось не лишённым логики". К тому же в заклинательных текстах «Алатырь» изредка проскальзывает, как «Янтарь-камень». Например: «... сидит старик, волос сед и сечёт и рубит на Янтаре-камне. Как ни дыму, ни пламя, ни искры нету, так бы у раба твоего не было не пламя, не замка крепче Янтаря-камня», «...там лежит камень, камень янтарный».
Ещё Алатырь часто именовали «бел-горюч камень», что объ-ясняли так: в состав благовонных курений входил как раз янтарь, в разогретом виде приобретавший белизну.
На самом деле под «чистым полем» имелось в виду не конкретное физическое пространство, а состояние психики, сконцентрированной на чём-то определённом. Всё осталь-ное должно покинуть внимание, улавливая лишь нужные ветра с Буяна. Тут уместно вспомнить, как иногда сильный поток воздуха сносит слова говорящего, и они становятся едва различимыми даже поблизости. В этом случае, чтобы услышать их звук, следует встать, «поймать» этот воздушный поток. Так, мысленный путь к первоначальным сущностям предусматривает приглушение плотского и настрой-ку на внутреннее восприятие. Можно сказать, что «чистое поле» в заговорах — это освобождение от внешних раздра-жителей, от привычной бытовой обстановки, поэтому-то заклинания заняты в первую очередь духовным, а не мате-риальным. Их предназначение взаимодействовать с ветра-ми, поддерживая или, наоборот, защищая от них. Эту мысль подтверждают и похоронные плачи, по которым встреча живых с умершим возможна лишь «в чистом во полюшке», «не ходит ли он в раздолье во чистом поле»?. То есть в заговоре речь о переходе человека от обычного состояния к режиму корректировки определенных установок.
Трудно избежать впечат-ления, что рационалистические начала античности призваны выхолостить мировоззрение, пронизывавшее ранее всю жизнь, делая ее непохожей на современные реалии. Заменить выход в «чисто поле» навстречу ветрам Буяна мудр-ствованием с блужданием по запутанному «лабиринту Ми-нотавра».
Примечательно типичное начало заговоров: «Встану бла-гословясь и пойду перекрестясь из дверей в двери, из ворот в ворота, в чисто поле...». Так описывался путь отличный от рационального мышления, не требующий особых путеводных нитей. Кроме «чистого поля» и «синего моря», в заговорах присутствует еще «Океан-море».
Такое трепетное восприятие Востока прежде всего обусловлено особым отношением крестьянского населения к утренней заре. К примеру, в хижинах черемис окна в обя-зательном порядке выходили на восточную сторону, чтобы помолиться именно на восход солнца. Путешествующие по России в XVIII веке отмечали, что все избы, которые им довелось видеть, «построены дверями на восток»6. Или в восточной стене делалось небольшое отверстие, из него выни-мали затычку, когда встречали и поклонялись предрассвет-ным лучам?. Сакрализация утренней зари ярко запечатлена в песнях разных народов. Например, в индийских «Ведах» есть популярный у местного населения «Гимн утренней заре»: «Подай нам, дочь небесная, сокровища для нашего
В основе этого лежит не столько мифология, как традиционно считается, сколько научно-познавательные при-чины. В нашей географической полосе восход по длительно-сти отличается от приполярного или приэкваториального.
Там он довольно скоротечен, а у нас в летний сезон превышает час, что создаёт дополнительные возможности его ис-пользования. Утренний свет оказывает воздействие на целый ряд серьёзных болезней (онкология, туберкулёз); с ним напрямую связывали здоровье в целом. Большое количество народных примет, объявленных суевериями, относятся к заре. В крестьянской среде даже бытовал обычай высыпать семена для посева, выставлять воду для питья на три утренних зорьки, чтобы «заря посвятила»?.
Красный свет способен проникать в каждую клетку че-ловеческого организма, активизируя выработку необходи-мого обмена веществ. Люди использовали его свойства в ле-чебно-оздоровительных целях. Без такой цветовой подпитки совершение каких-либо духовных практик считалось ма-лоэффективным. Неслучайно именно красному свету многие народы приписывали магические свойства". Добавим, что современная наука только начинает нащупывать подходы к знанию, которое когда-то составляло неотъемлемую часть мировоззрения. Наши предки предвосхитили достиже-ния современной медицины, например в области фотоди-намической терапии.
Рассветные мотивы стали увязываться в заговорах с Богородицей, что вскользь замечено в литературе'. Более детальное знакомство с текстами позволяет развить эту идею. Начнём с конкретных при-меров: «заря, заряница, красная девица, сама мать и сама царица, светлее месяца...»?. «Утреннею росою умываются, текучей водой утираются, ризой матушки Богородицы об-лакаются», «по утру, не водою - утреннею росою умываю-чи, ризой Матушки Пресвятой Богородицы облакаюся»?. Её просят «закрыть своей пеленой и нетленной ризой избавить от щепоты, от ломоты», умоляют: «Царица небесная, Пресвятая Богородица! Закрой и защити нетленною ризою меня раба твоего»*. Или «идёт Богородица Владычица, несет нетленную пелену, покрывает раба Божья...»5. То есть утренняя зорька уподобляется ризой новозаветной матери Марии, причём ризой нетленной, поскольку нетленен сам солнечный восход. Часто Богородица фигурирует не одна, а в компании с какими-то сестрами, также связанными с утренней и вечерней зарей: «Матушка заря вечерняя, утренняя Марея (Мария - А.П.), полуночная Макариада, как вы поспать ложится, и кто молитвы Иисусовы не творит вста-вая, не перекрестится... и кто нечист ходит, и пьёт, и ест рано, тот наш угодник». Несложно заметить, что навещают эти «жёны» тех, кто нарушает предписанные нормы поведения или ведет асоциальный образ жизни. Перед нами не де-журные фразы, как может показаться на первый взгляд.
В прошлом бытовала вера в происхождение серьезных не-домоганий не только от внутренних процессов в организме, но и от внешних воздействий. По старинным воззрениям, недуги, «от одного больного к другому перелетая...», как наваждение извне*. Это тесно увязано «с целой сетью при-мет, предрассудков, суеверий, слабеющим эхом звучащих из времён незапамятной старины»*. В человеческий организм заболевания приходят по ветрам: их источник — искажение взаимоотношений человека с природой, с окру-жающими его людьми.
Обращение к таким силам необходимо, поскольку «ли-хоманки» «с пилами, с могучими и сильными большими молотами, с вострыми мечами» пилят «белый Латырь ка-мень» и вынимают из него «палящий и гулящий огонь?. Их оказывается двенадцать, причём имена отражают то или иное состояние болезни, различные степени заболевания.
По словам знахарей, каждая из этих «жён» или «сестёр» имеет «свой вкус» с определёнными симптомами'. Первой упомянута Тряссея, т.е. повышение температуры, чем сопровождается начало недомогания. Второй - Огнея, пре-бывание в жару: «как разгорятся дрова смоленые в печи, так разжигает во всяком человеческом сердце»*. Третья - Ледея, дающая озноб, от которого «знобит род человече-ский, что тот человек и в печи не может согреться». Затем — Гнетея, нарушающая дыханье. За ней идёт Хрипуша, которая «у сердца стоит, душу занимает». Шестая - Глухая,
Давно замечено, что наименования трясовниц в той или иной очередности присутствуют в заговорах из самых разных регионов. Для представителей различных этносов и культур характерны устойчивые представления о том, что «заклина-тельная формула приобретает действительность лишь при назывании всех имен враждебной силы»*. Само заклинание мыслилось вполне физиологическим процессом, где «вместе с питьём проглатывается и заговор, причем слова выступают главным компонентом лекарства» . Говоря иначе, болезнь воспринималась живой сущностью, которую нужно назвать, а затем обмануть. Иногда всё это дополнялось ещё и выстрелом из ружья, чтобы распугать лихоманок. Последние, по народным поверьям, больше всего боялись охотников, способных ружейным выстрелом перебить ветра болезни?.
Ими маркируются болезни, разнообразные злые персонажи, т.е. «нечистая сила». В магических формулах чёрный цвет имеет значение «опасный, дальний, относящийся к чужому миру», и в лечебных заговорах участвует в образовании заговорного клише, символизирующего неду-ги?. Далее по частоте использования идёт белый цвет, соотно-симый с понятием «чистый, светлый», в лечебном смысле - «здоровый». По мнению специалистов, красное выступало тождественно белому, а сама белизна является символом красоты: неслучайно этими двумя эпитетами характеризуют день". Кроме того, белый цвет — синоним сакрального, верх-него. Его присутствие в заговорных текстах — свидетельство того, что болезнь бессильна по отношению к объектам высшего мира ввиду их сакральной природы. К примеру, «когда до устья белой реки дойдёшь, молоко белого голубя, обитаю-щего там, принесёшь...», т.е. болезни приказывают найти белого голубя в нижней части реки (нижнем мире), что само
Так, из одного текста мы узнаём, что у венца дома, у бревна в срубе, где «угол рублен и крест дубов»', от копоти образовывалось изображение кре-ста; это почиталось повсеместно. В другом заговоре крест назван «поклонным медным»: Майков считал его старовер-ческим «поморской секты»?. Знахарки крестообразно смахивали (раскрещивали) хвор со лба, обеих щёк больного, умывая его наговорённой водой . Или больное место обводили бруском, а крестили столовым ножом'. По одному из поволж-ских обрядов, связанному с заклинаниями, также надрезали крестообразно ухо. Особо подчеркнём: во всех этих действиях использовался равносторонний крест, отличный от креста евангельского, на котором совершенно распятие.
Хотя о самом распятии упоминания в заговорах есть, трактовать эти места в христианском смысле было бы также поспешным. О распятии говорится исключительно в контексте общей заговорной формулы: «как истинного Христа, Царя небесного, распинали, разверзали, копиями прободали, и у него не было болезни, так бы и у раба Божьего не Бали.
В этой связи нельзя не признать, что в заговорах присутствует определённая символика «отнюдь не христианского характера». А сам инструментарий и практицизм заклинаний в принципе далёк от библейских понятий.
Если рассмотренные заклинательные практики построены на привлечении небесных сил, то другой вид заговоров, связанных, как правило, с плотью, опирался на глубокие физиологические знания о человеке. Проиллюстрируем это на примере заговоров на полевые работы. В начале жатвы каждый работник или работница, приходя первый раз на жатву, опоясывался специальным поясом из ржи, наговаривая: «как матушка рожь стала год, да не устала, так и моя спинушка жать бы не устала». Смысл этого заключался не в мракобесии и дикости, а в практической проблеме — адаптации к трудной физической работе. Пояс, говоря
современным языком, являлся накладываемой аппликацией из колосьев ржи, которая раздражала кожу. В сгробленном состоянии человек испытывал стресс, а пояс своей колючестью, свойственной колосьям ржи, снимал внутреннее перенапряжение, расслабляя спинные корешковые мыш-цы, не давая им затекать. Такой пояс носили, пока собирали три снопа (30-40 минут), а после того как организм перестраивался, снимали. После завершения жатвы люди прокатывались по обработанной полосе со словами: «жни-ва, ты жнива, дай-ко мне силы...». Это также не суеверие, а рефлекторное терапевтическое действие, которое способствовало восстановлению обмена веществ и возврату тела в дорабочее состояние. Причём этот обряд избегали совершать при посторонних. Кроме того, один небольшой сноп уносили домой, где ставили «в первый угол избы, а после... этим снопом выгоняют мух из избы со словами «ступайте вон; мы работу свою кончили, простору нам давайте и во-лю»?. Конечно, дело здесь не в мухах — в раскрещивании снопом вибраций, оставшихся от тяжёлой работы, и переводе семьи на другой режим. Так регулировалась «примитивная», как считалось, крестьянская жизнь, опиравшаяся на физиологические знания о человеке.
Вот ещё один заговор подобного рода, связанный с избавлением от остеохондроза. При первых симптомах заболевания в спине или пояснице, когда корешковые мышцы вокруг позвоночника были сдавлены, человека клали на порог дома. Затем брали веник, который голиком (прутьями) накладывали на больное место и трижды ударяли по нему топором, повторяя «болезнь секу», после чего голик выбрасывали в сени, плюнув туда три раза'. Все эти простые грозные действия предпринимали, как говорили крестьяне, чтобы запугать болезнь?. Несмотря на кажущуюся для современ-ного человека нелепицу, смысл всего этого был чётко продуман и мотивирован. Когда больной видел занесённый над собой топор, его тело автоматически расслаблялось, и удар приходился на мышцы, а голик выступал в качестве защи-ты. При этом в глубине тела мышцы рефлекторно рассла-блялись, чего трудно достичь при обычном массаже. Выброс топора в сени символизировал преодоление болезненных ощущений, которые мучили человека. Здесь обязательно следует добавить, что этот заговор действовал на деревен-ских жителей, чьё тело при подобном действии действительно расслаблялось. Тогда как у горожанина наблюдался совсем другой рефлекс: его тело, ощущая опасность, наоборот, сильно напрягалось, и ожидаемый эффект не достигался.
Нельзя не отметить и особый вид заклинаний, направленных на снятие порчи и широко распространённых среди населения. Причём в народе наведение порчи связыва-ли не столько с пищей или питьём, сколько с «насыланием по ветру — на пять, шесть тысяч вёрст может действо-вать». Мы располагаем описанием отговаривания, позволя-ющего составить представление, на чём основывались такие заговоры*. Действие, как правило, происходило в специальной избе, именуемой в народе «чистой». По центру в ней раз-мещалась печка, делившая пространство пополам, в помещении было две двери: одна для входа, другая для выхода.
В такой избе мог проживать только человек, знающий и уме-ющий взаимодействовать с ветрами; перед началом закли-нания избу освобождали от лишних вещей, мебели. Отговаривание от сглаза, неприязни и т.д. представляло собой коллективное действие, в котором участвовали не только знахарь (знахарка) и его подопечный (подопечная), но и другие лица, находившиеся с ним в хороших, дружеских от-ношениях. В основе лежало понимание, что порча пришла по ветру, и целью было перебить эту негативную волну, за-владевшую человеком. Важную роль в совершении обряда играла печь, на которой и размещались 4-5 человек, эмоционально переживавших за порченого. Суть происходившего заключалась в активизации через разогрев воздушных пото-ков, которым передавалась энергетика людей, заряженная позитивом. Эти усиленные вибрации вытесняли, перебивали порченые ветра, формируя другие.
Кстати, это относится и к былинным исполнителям, с не меньшей серьёзностью относившимся к распевам «старин». Любопытно, что во многих местах старались не петь при священниках, во время церковных постов'. Вместе с тем отношение к «старинам» буквально пронизано религиозным почтением, осуждавшим вольные трактовки. К примеру, перед тем как сказывать, известная северная исполнительница Аграфена Крюкова всё обстоятельно обдумывала, по её убеждению, кто «убавит или прибавит» — будет проклят, от чего ее считали закоренелой староверкой?. Специалисты были убеждены, что такое отношение к былинам сохранялось на протяжении столетий вплоть до начала XX века?.
Ещё в большей мере сказанное относится и к знахарским кругам. Практикующих заговоры часто именовали шептунами: как правило, они произносили заклинания шепотом, точнее еле слышно, но внятно. В народной среде считали, что такой голос лучше всего проникает в глубину человеческого сознания; отсюда и ещё одно своеобразное прозвище знахаря — вежливец, т.е. тихо говорящий.
Народный быт оказался не в меньшей мере преисполнен скрытых смыслов, чем былины и заговоры. Обряды выступали своеобразным регулятором многообразных сторон жизни. Как хорошо замечено, они играли своеобразную «роль бытового орнамента времени», выступая «скелетом прошлого духовного творчества», нуждающегося в разъяс-нении?. Вхождение (роды) в мир, полноценная социализа-ция, уход из нашей реальности (похороны) - ранее все эти вехи воспринимались не сами по себе, а в контексте небес-ных, земных, человеческих взаимосвязей. Подобное отношение к жизни принципиально отлично от современного, стремящегося подавить, объявить мракобесием прошлое мировоззрение. На протяжении последних веков выхолащивание фольклорных посылов оставалось насущной заботой церковности и европейской научности, которые шествовали тут рука об руку. Сегодня настала пора оценить обрядовый ряд не с внешней стороны, как это традиционно делалось, а осмыслить его изнутри. Догадка начала XX века о том, что глубоко укоренённые в сознании многих поколений обряды «нельзя мерить религией»?, требует всестороннего развития. Такой взгляд способен дать новый импульс разработке фольклорного наследия.
Родильная обрядность, несмотря на интерес к ней, попрежнему ютится на этнографической периферии, что во многом обусловлено её спецификой. Погребальные, сва-дебные, календарные ритуалы подчёркнуто публичны. Родины же и суеверные приметы, с ними связанные, носят частный характер, принадлежа большей частью к узкосе-мейной сфере. В прежние времена ключевую роль в дан-ной области играла повивальная бабка (повитуха), в чём едины практически все исследователи. Это были женщины не репродуктивного возраста, имевшие многочислен-ное потомство (не рожавшие не могли выступать в этом качестве). Почти всегда они были безукоризненного пове-дения, как в прошлом, так и в настоящем, не замеченные в супружеских изменах («у таких дети больными родятся»).
Кроме моральных качеств, разумеется, обладали необходимыми навыками, обычно передававшимися по наследству.
Учёными давно отмечено, что повивальное дело на протяжении всей истории являлось постоянной заботой чело-вечества, достигнув высокого развития у многих народов'.
С другой стороны, эта сфера фольклорных традиций в тече-ние последних двух столетий сильно дискредитирована медициной и церковью, которые видели в народной практике главным образом дикость и мракобесие. Из такого отноше-ния, пожалуй, выделяется инициатива Павла I, с большим вниманием отнёсшегося к родительному делу в крестьян-ской среде. Этот экстравагантный император повелел создать сеть училищ повивального искусства, даровав повиту-хам «привилегии и преимущества»', хотя, конечно, развития это не получило. На скудность рациональной мысли и на отсутствие у повитух надлежащих, с точки зрения врачебно-го официоза, знаний указывали как на основную причину гибели почти половины детей, не доживавших до пятилет-него возраста?. Связь же между высокой детской смертностью и разрушением крестьянской родильной культуры никак не прослеживалась.
Востребованность услуг повивальных бабок в одинаковой мере характеризовало как синодальных православ-ных, так и староверов, а в том числе тех, кого именова-ли инородцами. Все они совершенно спокойно принимали действия, которые совершали повитухи. Никого не смуща-ло, что одной из ключевых функций последних была защита новорождённого и матери от нечистой силы с широким использованием заклинаний. Больше всего население це-нило уменье «обхаживать родительницу и ребёнка»*. По-кровительницей, помощницей повитух считалась «бабушка Соломонида (в других вариантах — Соломония, Соломея)»:
Практически в каждой деревне в обязательном порядке имелась одна или несколько повитух в зависимости от количества дворов'. Земские врачи и акушеры, появившиеся в российской деревне во второй половине XIX века, постоянно сообщали о приверженности населения испытанному дедовскому способу. Это объясняли «многофункционально-стью» повитухи: кроме принятия родов, та оказывала разнообразную помощь по уходу за матерью и ребёнком?. Кроме того, и это главное, приход в мир новорождённого напрямую связывался в народной среде с началом формирования души. Вот этим-то весьма непростым делом и занималась повитуха, и к чему нынешняя медицина, целиком сосредоточенная на внешней плотской стороне родов, отношения не имела. Да и само название «повивальная бабка» означа-до «повивать на жизнь, привязывать к родителям, к дому», иными словами, «повивать ветра». Повитуха почиталась выше простой знахарки, поскольку её специализация не-посредственно связана с духом, с духовностью в широком смысле: она открывала новорождённому ворота в этот мир. Недаром в народе говорили: по-настоящему только волхвам и повитухам ведомо о душе.
Приглашение повитухи происходило сразу после определения беременности. С этой поры она становилась частым гостем в семье, постоянно навещала свою подопечную, контролируя её здоровье. Этот период отличался повышенным вниманием к будущей роженице, что нашло выражение в целом ряде примет, которые в обязательном порядке учитывались. С точки зрения современности они выглядят откровенной нелепицей, тем не менее следует взглянуть на них серьёзно. Например, забеременев, женщина не могла ухаживать за домашней скотиной, тем более ударять или толкать её. Такая предосторожность объяснялась тем, что
1 Герасимова К.М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск, 1989. С. 65.
2 Там же. С. 59.в этом случае ветры (вибрации) животных могли негативно повлиять на организм матери'. Предписывалось избегать похоронных процессий и участия в поминках, нельзя было даже переходить дорогу, когда по ней проносили покойни-ка. Энергетика похоронной процессии, с народной точки зрения, оказывала неблагоприятное воздействие на будущего младенца. Присутствие же беременной на поминках могло привязать дух усопшего к зародышу и отразиться после рождения на его здоровье. Ей также категорически за-прещалось пристально смотреть на нищих, убогих и калек, поскольку даже соболезнование, подача милостыни созда-вали контакт между ними, который, как считалось, мог влиять на плод'. Кроме того, беременной было нельзя класть за пазуху некоторые продукты, например яйца". Этот странный запрет на самом деле вытекал из медицинских познаний: куры часто подвержены инфекциям (например, саль-монеллёзу), против чего у формирующегося ребёнка нет иммунитета. А также из представлений, что дух зародыша в яйце и плод в чреве женщины будут по ветру повязаны.
Как считалось, поведение женщины может влиять не только на течение беременности, но даже на окружаю-щих. Давно замечено: когда она перейдёт кому-либо дорогу, на того могут «напасть» чирьи".
Эта примета также имела обоснования: если в организме человека протекал какой-либо хронический воспалительный процесс, то неожиданная встреча или столкновение с беременной давала толчок к его обострению, после чего вероятность внешних проявлений повышалась. Встреча, с точки зрения простонародья, могла привести к застою крови. Оттого что кровь «застоялась», могут происходить чирьи, боль в пояснице и другие болез-ни'. Весьма интересно и то, какими способами раньше практически безошибочно определяли пол будущего ребёнка.
Когда женщина предпочитает редьку и свеклу, то ожидали девочку, а селёдку — мальчика?. Поясним: в первом случае явления токсикоза более выражены, а редька и свёкла об-легчали состояние женщины, т.е. обеспечивали защиту организма. Во втором же наблюдалась большая потребность в соли и белке, так как формировался более крупный плод, значит, родится мальчик. Традиционно повитуха давала ре-комендации по поведению, питанию женщины, также гадала о поле будущего ребёнка. У восточных славян роль «сельской акушерки» в таких процедурах была очень высока, и, хотя о поле будущего ребёнка могли гадать многие (сама бере-менная, свекровь, мать или другие женщины), предпочтение всегда отдавалось повивальной бабке?. Часто они узнавали пол ребёнка по пульсам: если он с раннего утра пробивал-ся на конце левого мизинца, то это мужской, если в основании мизинца — женский. Напомним, что аналогичный способ распознания плода практиковался в тибетской медицине.
Источники достаточно ясно указывают на лечебно-ги-гиенические приёмы с интенсивным пареньем в банях для «правления» живота беременной: повитухи «стирали» жи-вот, «поправляли» младенца'. Парение начиналось с внима-тельного осмотра и ощупывания будущей роженицы, так судили о ходе беременности, здоровье будущей роженицы и её ребенка. Баня вообще считалась покровительницей ро-дов, к ней обращались за содействием: «Баня-авушка, ма-тушка... поверху идёт твой серебряный пар, посредине идёт твой дым, по самому низу идёт пыль твоя. Горячим паром обдай (имя), дымом своим окутай, зольной пылью покрой.
Баня-авушка, серебряная, дай родительнице здоровья, силы, чтобы вынянчила, выкормила ребёнка»?. Повитухи правили в бане теплом и холодом не вслепую, заранее зная результат своей работы. Иногда считалось полезным «распаривать» живот, иногда же, напротив, полезен холод. В зимнее время нередко выводят роженицу в сени «охолонуть» или же кладут ей на живот снег. «Холодок хорошо, поутомить жар-то нужно, — объясняла его действие бабка, — там от жару всё вздуло, Бог и не даёт»?. К сожалению, эти знания, облачённые в архаичные формы, не были подробно описаны и си-стематизированы.
Беременность, несмотря на частое явление, составляла своего рода общественное событие в деревне. Все толковали о нём, многие заходили осведомиться о здоровье, неред-
жого сглаза или порчи. Всё это ставило в особое положение повитуху, которая выступала в роли воплощённого в духе родителя. Период собственно родов начинался с момента первых схваток и был насыщен заклинательными действи-ями, обрядами, за которыми стояли определённые знания и навыки. При родах в обязательном порядке предписывалось распускать волосы, развязывать узлы, пояса, отпирать замки, двери, ворота и т.д. Тогда и роды развяжутся скорее, свободно откроются «затворы и запоры» затрудняющие выход ребёнка?. То есть роженица не должна зацепиться взглядом или мысленно за что-нибудь закрытое, что с психологи-ческой точки зрения явно не лишено смысла. Перед родами считалось полезным просить благословения не только жи-вущих, но и предков?. Заговоров на облегчение родов записано немало, они делятся на два типа магических действий: с тестом и водой. Повитуха замешивала тесто (чаще всего ржаное) и под наговор обмазывала им живот беременной, что имело размягчающий эффект, подготавливая к родам*.
аговорная персонализация образа материнства — это ритуал поиска тех ветров, вострепетав на которых, по-вивальная бабка достигнет желаемого. Работая с трепет-ной душой, она посредством заговоров выходила в особое состояние, в «чистое поле». Внимательные исследователи совершенно правильно подметили: повитуха выступала здесь медиатором контакта с потусторонними сила-ми'. Если говорить точнее, то она создавала комфортное энергетическое пространство для облегчения родов. Особенно это важно, когда ритуальные запреты нарушены и роды проходили тяжело, т.е. длились более суток. В таких случаях, чтобы отворились «врата у роженицы»
Для родительной практики характерно особое отношение к последу с пуповиной, которая старательно прята-лась от постороннего взгляда. Тщательно завёрнутые, часто с ломтем чёрного хлеба, с несколькими головками лука, они зарываются в каком-либо месте, выбранном повитухой, под полом избы или рядом. Зарывание последа сопровождалось заговорами, имеющими отношение к здоровью родительни-цы: «От земли взято, земле предавайся, а раба божия (имя) на земле оставайся». Часто пуповину называли «поводок», на котором ребёнок приводился в мир, воспринимая её свое-образной нитью, связывающей прошлые и настоящее поко-ления. Повитухи клали на пульсирующую пуповину пальцы, чтобы чувствовать, как переходит дух, который воплотится в ребёнке, поэтому при родах вспоминали предков, умер-ших родственников. По последу также определяли будущего брата или сестру новорождённого'. Только потом пуповину перетягивали волосом матери и перекусывали, но никогда не обрезали ножом или ножницами. В практике повиваль-ных бабок пульсации в пуповине рассматривались как духовная связь матери и ребёнка, до того как перерезать пу-повину, его показывали роженице. Вибрации по «поводку» замещали на духовное кормление в лице повивальной баб-ки, и по реакции младенца на эту замену судили о его будущей душевности или нелюдимости?.
Особенно следует выделить достаточно редкие случаи рождения младенца в оболочке в виде пузыря, или, как говорили, в «рубашке»: отчего происходит известная пословица — «в рубашке родился». Эту оболочку высушива-ли на печи и затем сохраняли вместе с одеждой. По народным поверьям, если её брать на чужбину, держать при себе, то она принесёт удачу: о родившихся в рубашке говорили как о счастливых?. Такое нечастое рождение воспринима-лось особым знаком, приметой особого расположения предков к только появившемуся на свет человеку, давало ему общественное одобрение и поддержку. Связь между отношением предков и здоровьем живущих лежала в основе морали того времени и прослеживалась на протяжении всей жизни. Сама рубашка имела не только охранительные функ-ции: она использовалась в целебных снадобьях, поскольку лечебные качества этих родильных «пузырей» были давно известны. В народе тогда осознавали, что они фактически обладали свойствами стволовых клеток, которые ныне всё шире используются современной медициной.
В то же время церковь со времён Стоглавого собора и позже воспринимала народное отношение к последу, РУбашке в качестве мерзости и дикости'. Церковной традиции присуще подчёркивание нечистоты родившей: в Европе женщина на время от родов до очищения как бы вновь превращается в язычницу?. Самым первым и неотложным делом по окончанию родов считается выпарить родительницу и новорождённого в бане или печи. Почти всегда были обязательны три бани, а иногда и больше. Значение бани, по народным представлениям, в восстановлении нормальных физиологических процессов в организме родительни-цы. «Промаять, пропарить», чтобы у неё «не спустилась и не скопилась дурная кровь, а шла бы из тела легче и ско-рее» — таково типичное объяснение необходимости банных процедур". Другое немаловажное значение состояло в использовании стерильного помещения для послеродо-вой «правки» родительницы. Повитухи были убеждены, что во многих случаях у рожениц существует опасность образования грыжи, которую «надобно разогнать». Помимо всего этого, в бане в первый послеродовой период лучше и проще схоронить её от постороннего глаза*.
Опасение сглаза было настолько велико, что первые несколько дней родительница проводила в бане вместе с по-витухой, которая фактически заменяла младенцу мать. Тот должен воспринимать духовное окормление повитухи и присаживаться на её ветра, поскольку у неё крепкий дух, в отличие от только перенёсшей роды матери. Оставаясь в обрядо-вом русле, последняя во всём была руководима повитухой и под её наблюдением кормила ребёнка. Подчеркнём, что отец ни при каких условиях не мог присутствовать при родах, однако этот запрет не соблюдался у переселенцев с западных окраин Российской империи, которые являлись носителями поздних культурных новаций. В Европе практикова-лись совершенно иные взгляды на роды: там при рождении мог присутствовать не только отец, но и другие люди?. В нашей же народной традиции табу на присутствие отца при родах было обязательным, что имело своё обоснование.
Женщина — это подчинённые мужу ветра, до родов она находилась в системе коллективного взаимодействия через мужа или большака, но, будучи роженицей, она свою физиологию подчиняла повитухе, которая её вела. Муж в этот период должен был тяжело трудиться, люльку делать, дрова рубить, чтобы утрудиться, т.е. уходить в сторону, чтобы своими ветрами не сбивать роды и не мешать выхаживанию младенца. Поэтому этнографы часто фиксировали отделён-ность роженицы от всякого общения с мужем'. Только после первого очищения баней новорождённого мог увидеть отец?. Конечно, все эти представления трактовались офи-циальной медициной «как цепко державшиеся суеверия».
Сразу после рождения следовал обряд погружения в воду или обмывания ребёнка с обязательным произнесением повитухой заговора. Наиболее распространено закли-нание с упоминанием гуся: «с гуся вода, с младенца ху-доба»*. Причём гусь фигурирует здесь неслучайно: у этой птицы развиты жировые поры, отчего перья пропитыва-ются жиром, что способствует нормальному функциони-рованию организма. Появившемуся на свет младенцу, как раз крайне необходима работа кожных пор, отчего зависит его физическая адаптация. Заклинание с гусем произ-носили и в дальнейшем, при этом особое внимание обра-Щали на положение волос при купании ребёнка. Если они Удерживались на поверхности, значит, были достаточно насыщены жиром, а жировые поры работали хорошо. Когда же волосы находились в воде, т.е. тонули, то это воспри-нималось тревожным знаком, преддверием болезни. В воду, в которой производили обмывание, часто клали серебряные монеты, правда, не столько с пожеланиями будущей безбедной жизни, сколько с целью большей дезинфекции жидкости. По первым купаниям определяли жизнеспособ-ность новорождённого. Если при погружении в воду он выпрямился, то это означало скорую смерть, а когда скор-чился, собирался в комок — верный признак здоровья.
Пребывая в прохладной среде, младенец рефлекторно должен сгруппироваться, в противном же случае это значило нарушение функций организма, что влекло за собой серьёзные последствия.
По сути, перед нами приёмы своеобразной рефлексодиагностики, оценивающей состояние здоровья с помощью анализа ответных реакций организма на воздействие раздражающего фактора. Таким образом, можно было доволь-но точно выявить болезнь у младенца «в зародыше». Умение выхаживать родительницу после тяжёлых и осложнённых родов открывает в них ещё и важные знахарские навыки.
По объяснению некоторых бабушек, от квасу с овсяной мукой будто бы легче бывает на нутре — «способнее и скрипотнее»!. Часто настойки назывались «водками», поскольку изготовлялись с использованием активных веществ, которые экстрагировались на спиртосодержащих жидкостях.
Несмотря на название, они имели крепость не выше кваса или кисломолочных продуктов. Для приготовления лекар-ственных настоев использовались травы и коренья, спиртовые настойки которых и сегодня не сходят с прилавков аптек, и польза натурального кваса для пищеварения уже никем не оспаривается. Лук и редька - природные анти-биотики, и их применение в данной ситуации полностью оправдано.
В народной традиции отличительным признаком ново-рождённого считалась его мягкость. Само слово «младенец» в этимологическом смысле обнаруживает такие значения, как слабый, мягкий, нежный?. Отсюда ребёнок приобретает качества «настоящего» человека (в том числе способность ви-деть, слышать, говорить и т.д.) не сам по себе, а в результате совершения над ним определённых ритуальных действий.
Мягкостью тела рождённого старались воспользоваться, чтобы придать ему «нужную» форму. Приняв его, повитуха в бане умелыми движениями правит голову, сжимает ноздри, выпрямляет руки и ноги". Младенцу также мажут пятки бан-ной сажей: повитухи прекрасно знали, что именно на пятках располагаются жизненно важные биоактивные узлы, на которые воздействовали банной сажей, обладавшей дезинфи-цирующими свойствами. Широко распространён обычай тугого пеленания, что помогает формировать тело младен-ца. Представление о нём как о материале отчётливо выражено в обычае «допекания» или «перепекания». Слабых детей клали на хлебную лопату, закутывали в тесто и сажали в печь, имитируя выпечку хлеба; считалось, что такой ребёнок не допёкся в утробе матери. Всё это действо сопрово-ждалось заговором: «будь теперь со столб вышины, с печь толщины»?. Причём часто с обращением к утренней и вечерней заре, которых призывали помочь пропарить младен-ца?. Обряд «перепекания» был весьма широко распространён не только в крестьянской среде. Например, известный поэт Гавриил Державин (сын мелких помещиков Казанской гу-бернии) в своих воспоминаниях писал о том, как его, «в младенчестве весьма слабого и сухого», запекали в хлебе в печи, «дабы получил он сколько-нибудь живности»*.
Перед тем как ребёнка переносили в дом, порог и по-доконники жилища, в котором появлялся младенец, посы-пали золой, что у многих этнографов вызывало недоумение или иронию. Современные учёные не понимали, что тем самым определялось, какие ветра (вибрации) в данный момент в помещении. Если зола ложилась «тревожно», т.е. собиралась в кучки, то это расценивалось как негативный знак и требовало раскрещивания избы веником или поло-тенцем. Затем ребёнка помещали в колыбель, изготовление которой было обязанностью отца. Он предварительно прокуривал её дымом от травы, листьев, собранных на берегу реки'. Использование прилегающего к воде растительного мусора неслучайно, поскольку по берегам тот довольно сырой и в костре давал много копоти, что наиболее эффективно способствовало обеззараживанию. После такого про-куривания рядом в колыбель клали пряники, но не только для пожелания сытой жизни, как казалось многим наблю-дателям?. Напомним, что пряники пеклись на меду и зерне, где имелись ферменты, хорошо защищавшие от инфекций, особенно кишечных. Сама колыбель, как правило, делалась из осины: считалось, что это дерево забирает силы и ребёнок будет спокойнее. Рядом с ней помещался медвежий ко-готь, чтобы младенец привыкал к защитному медвежьему духу?. На шею ребёнку привешивали различные амулеты, например зашитую в холщовую тряпочку сурьму, содержащую ртуть в связанном состоянии, что предохраняло от раз-личных кожных сыпей. Люльку никогда не оставляли пу-стой, на время отсутствия в ней младенца туда обязательно клали обычно веник, чтобы раскрещивать, убирать сторонние вибрации, не нужные ребёнку или опасные для него.
Если тот был болезненным, то прибегали к любопытно-му обряду. Ребёнка передавали через окно, чаще всего жен-щине, у которой дети были живы-здоровы. Та принимала, как бы покупала младенца, с «угрозой»: родители ни на этом свете, ни на том не имеют с ним никакого дела, после чего его снова вносили в дом. Этот обряд основан на вере, что, изображая передачу (продажу), мать и отец вынуждают силу, вызвавшую нездоровье, признать ребёнка за другими.
В данном случае люди также верили в возможность обмануть смерть. Важно было пусть и формально, но наглядно продемонстрировать отказ от дитяти, чтобы болезнь ничего не смогла с ним поделать, так как тот «принадлежит» уже другим'. Иными словами, смысл действия заключался в избавлении от прежнего негативного фона и вводе в новый более благоприятный. Такой обряд был весьма распростра-нён, о чём встречаются свидетельства даже в похоронных плачах, например: «когда родилась ты... при помощи ворожей купленная... после крестин крёстная мать тебя через окно подала, восковую свечу зажгли...»?.
С перемещением новорождённого в дом происходило приучение его к родителям. Многие обряды детского цикла связаны с вхождением ребёнка в семью, к очагу. К при-меру, под изголовье в люльку клали «комел» от того веника, которым парилась после родов мать, чтобы дитя привыкло к её запаху. В первый раз мать кормила новорождённого,пережёвывая хлеб', чтобы обмениваться с ним ферментами.
Затем следовало признание дитяти отцом, чья роль в ходе родов отличалась подчёркнутой пассивностью?. После предь-явления отцу младенца туго заворачивали в отцовскую РУ-баху, «дабы всё последнего перешло на ребёнка»3. Всеми этими действиями руководила повитуха, которая переда-вала своего подопечного на попечение родителям. Ребёнка клали на лавку, на соломенную подстилку, застеленную холстом, или помещали на тёплую печь. Это символизировало приобщение нового члена семьи к домашнему очагу и сопровождалось заговором: «как эта печь крепка, так бы и ты был крепок, как эта печь спокойна, так и ты был спо-коен»*. При этом обращались к домашним духам, чьим местом обитания мыслился восточный угол избы. В первую очередь подразумевался домовой, которому кланялись в четыре стороны". Большое значение имела колыбельная пес-ня, собранный корпус которых насчитывает более четырёх тысяч напевов". Как установили специалисты, колыбельные тексты дополняют различные обрядовые действия и риту-алы. Они, как правило, исполняются при засыпании, а так- этот термин, применявшийся в древности для обозначения общины, круговой поруки, нельзя объяснять исключительно экономически. Происхождение общины замешано не только на хозяйственных основах, как казалось многим, но и на духовных. Более того, в былые времена круговая порука подразумевала в первую очередь духовное единение людей, проживавших в определённой местности. Эту общность между ними выражал обряд «плетение верёвки», в отличие от экономистов, неплохо известный этнографам.
В нём в обязательном порядке принимали участие семьи, включая детей с семилетнего возраста, составлявшие общину со сходами (собраниями), праздниками, общими кладби-щами. «Плетение верёвки» всегда происходило коллективно, к чему готовились заранее; обязанности между мужчина-ми, женщинами, детьми были чётко распределены. Суть совместных действий символизировало скручивание чело-веческих ветров в настройке всего «мира» на единую вол-ну. Затем такую верёвку (канат) использовали для обмерки участков общинной земли или разрезали на куски и переда-вали для семейного пользования*. Таким образом, этот обряд имел сакральное, а не хозяйственное значение.
Важно заметить, что «плетение верёвки» являлось коллекторами обрядом современным за 1 день на духу; именно так делались вещи, предметы, называвшие-ся обыденными'. По народным поверьям, в них заключался глубокий смысл: только обыденные изделия могли обладать защитной функцией. Считалось, что совместное изготовление родственниками, близкими людьми какого-либо предмета для заболевшего с большой вероятностью может повлиять на выздоровление. Поэтому такие платки, полотенца, рубахи имели в первую очередь духовное, а не практическое применение. Правда, впоследствии отношение к подобного рода вещам подверглось христианизации. То же обыденное полотенце этнографы рассматривали суеверным аналогом чудесному «омофору», изображённому на иконах «Покро-ва Пресвятой Богородицы»*. Хотя дохристианский характер данного обряда просматривается зримо, на что указывают выявленные места из похоронных плачей, расширяющие наши представления о том, как происходило изготовление обыденных вещей. Например, в причитании «Оплакивание платка для утирания слёз» конопля, из которой тот изготов-лен, выбиралась далеко не произвольно, не случайно.
В этих словах знатока религиозных дел слышится лёгкая ирония, поскольку смысл этого обряда для него был не совсем ясен. Конечно, понимание, что всё это связано с мерами предосторожности против вспыш-ки эпидемий, присутствовало?, однако, как это действовало практически, оставалось недоступным. Более поздние наблюдатели также недоумевали от проведения сохой или плугом некой магической черты, которую не должна переступать заразная болезнь, от участия в данном обряде главным образом вдов с песней и криками. Одна из женщин шествовала впереди со свечой, отчего эту церемонию считали религиозной, но густо пропитанной тёмными суевериями?.
Суть обряда сугубо профилактическая, причём основанная не на религиозности, а исключительно на знаниях, чего, ви-димо, просвещённая публика допустить не могла и не же-лала. Опахивание территории, селения было направлено против насекомых, которые являлись в случае эпизоотий носителями и разносчиками всевозможных инфекций, забо-левание людей в этом случае приобретало характер эпиде-мий. В некоторых местах вообще придерживались мнения, что все повальные болезни приходят с туманом или с ро-сою*. Борозда выступала здесь определённым препятствием.
Всё это «суеверие» базируется на серьёзных мировоз-зренческих представлениях. Участие в обряде большаков объяснялось тем, что в семье все ветра идут через главу, отца. Последние обязаны были получить огонь только тру-дом, а не как-то иначе. Этим преследовалась определённая цель: они должны устать, тем самым снизить восприимчивость к внешнему. В данном случае к эпидемиям, распро-странявшимся также по ветру. Прохождение через «пажег» создавало эффект окуривания, препятствующий разнесению заразы.
при заболевании горячкой в семье кто-то из взрослых род-ственников направлялся в лес относить «оброк» лесовому и просить того «укрыть от огневицы» близких, в чём усма-тривали остатки языческих предрассудков'. На самом же деле указанные действия не лишены разумности: лес в народных представлениях являлся местом, где наиболее сильно проявляются земные вибрации. Туда постоянно стремил-ся человек, желая воспользоваться земными ветрами себе во благо. В данном случае этнографы не указали, что в лес направлялись, взяв что-то из личных вещей больного, с целью сохранить поруку по ветру и перебить ветра болезни природными, более сильными. Что касается «оброка», то под ним подразумевалось обещание лесному духу совершить благой поступок и тем самым сохранить вибрации, выстроенные по лесу. Эти действия подкреплялись также и мерами по дезинфекции избы, где находился больной. Однако её не проветривали (сквозняки могли лишь усугубить ситуацию в помещении), а клали железное лезвие топора на печные угли и держали его там разогретым длительное время'. Эффект достаточно прост: железо нагревалось, чистило и обеззараживало воздух в закрытом помещении, который циркулировал вокруг печки. Недаром простые люди гово-рили: «топор чистит воздух», что вызывало недоумение зем-ских работников. Этот пример позволяет лучше осознать, почему языческие верования тесно связаны с рощами, де-ревьями. Мировоззрение прошлого с трудом приживалось в городах, где связь с землёй носила призрачный характер, и формировалась совершенно иная, искажённая среда. Не-случайно в народе раньше даже смерть в городе расценива-лась крайне негативно. В ответ церковники окрестили сельского жителя «поганым» (от лат. paganus) в пику городским христианам?.
Для понимающих природу людей были важны не про-гулки по свежему воздуху, а в первую очередь соприкосновение с духом (вибрациями) рощи, леса.
Причём эти монеты даже при бедствиях и голоде никто не смел присваивать. С помощью родниковой воды с большой долей точности определяли, выздоровеет или умрёт боль-ной. Вот как об этом рассказывала одна крестьянка: «Когда идёшь на ключ, не надо ни с кем разговаривать, ничего спрашивать, ничего сказывать. Сойдёшь на ключ, помолишься на все четыре стороны и задумаешь: на живое или мертвое (к выздоровлению или смерти — А.П.). Как на живое — водыча стоит, как стёклышко, светлая; как на мёртвое — ключи забьют, завыскакивают..»?. Расшифровка этих «суеверий» в следующем: молчание при следовании к родни-ку, избегание встреч с людьми необходимы, чтобы не сбить и сохранить мысленный контакт и вибрации от больного.
Если болезнь уже сильно поразила организм - вода начинала слегка колыхаться, на поверхности появлялась рябь, значит, душа готовилась выйти, а когда оставалась спокойной — серьёзных осложнений не ждали; так достаточно верно определяли состояние человека.
Однако у разных народов чувство, передавшееся из поколения в поколение, о наполненности существующего мира различными влияниями так и не было вытравлено, приобретя магическую окраску. Если отрешиться от внедрённой сверху «демонологии» с её лешими, чертями, водяными, бе-сами, то народные представления оперировали простым понятием «сила», исходившая от земли. Учёные считают это слово наиболее точным определением всего того, что впоследствии было дискредитировано'.
Крестьянская жизнь протекала среди царства растений, где особую значимость имели всевозможные тра-вы. Вера в их лечебные качества — издавна неотъемлемая часть народного мировоззрения: им приписывались необыкновенные и чудесные действия, причём не только физиологические. Растениям даже приписывались одушевленные свойства, они наделялись способностями пря-таться, кланяться, молчать, кричать и т.д.2 Научно просвещённые круги свысока относились к такому, считая, что мы имеем дело с ещё не выветренным невежеством.
На самом деле сердцевину крестьянской фармакологии питали не тёмные суеверия, а серьёзные знания, накопленные многими поколениями. Прежде всего они определялись влиянием окружающей среды на человеческий организм. Одни травы ограничивали амплитуду колеба-ний мышечной ткани, другие увеличивали. С одной стороны, это позволяло купировать распространение заболеваний, передающихся по ветру, или с другой — в случае необходимости активизировать те или иные функции организма. То есть травы использовались для воздействия на физиологические свойства человека в вибрационной среде. Разумеется, современная медицина, будучи «дитём» совершенно другой научной культуры, слабо адаптирована к подобному.
Сбор трав представлял собой сложный процесс, требующий обширных знаний и умений пользоваться плодами природы. Уважением в народной среде пользовались те, кто понимал лечебное предназначение тех или иных трав.
Пик собирания приходился на дни летнего солнцестояния.
Предписание брать травы с Купальницы на Иванов день (24 июня) содержится уже в самом раннем из известных трав-ников, относимых к первой половине XVII столетия. Большой популярностью пользовался также день Аграфены Купальницы (23 июня), в других случаях упоминается 20 июня (одиначик холостой) или вся ивановская неделя (сильный дом)'. В народе считается большим грехом косить траву до Петрова дня; многие убеждены, что скосивший до ука-занного срока будет наказан какой-нибудь болезнью и тому никакое лекарство травное не поможет. Растительность рва-ли с почтением со словами: «тебе, травонька, на исхождение, а мне, рабе Божей, во исцеление»?. Тексты травников регла-ментируют, что приближаться или удаляться от растения следовало особым образом. Так, сорвав золотовку или ореш-ник, надо было быстро уходить (даже бежать), не оглядыва-ясь; к другим же следовало подходить неспешно, кланяться с приговорами'. Бытовала убеждённость во врачебной силе практически каждой травы, причём существовала строгая регламентация их использования. К примеру, цветок адамова голова выдерживается до сорока дней, обладает раз-нобразными действиями, в частности помогает беременной легко родить. Необыкновенными свойствами наделена лиходейная трава, чертогон, или переполох. Если пить ли-ходейную и вешать её в доме, то она предохраняет от сглаза и порчи. Чертогон имеет способность противостоять раз-личной нечисти, давать успокоение от тревог'.
Большой славой от тоски пользуется трава Марина-Маг-долина. Полынь-трава способствует прерыванию беремен-ности, вышибая плод, вороний глаз является аналогом ан-тибиотика, снимая внутренние воспалительные процессы, эффективное средство для выведения чирьев. Ягоды воро-ньего глаза глотали и избавлялись от чирьев года на два".
Серьёзное внимание обращали на то, какие травы растут поблизости друг от друга, что определяло в большей степени их лечебные свойства, те или иные особенности. К приме-ру, петров крест — цветок наиболее ранний, оттепельный — имел несколько названий и соответственно предназначений в зависимости от того, с кем произрастал. Если с ландышем, то в нём содержались глюкозиды от сердечных болезней: сок ландыша, смешиваясь через грибницу, проникал в петров крест. Главное было — понять, кто соседи и какая сила из почвы берётся.
Интересно, что в домашней терапии крестьянина встречаются наименования трав, не произрастающих в приро-де. Одна из них — разрыв-трава, про которую говорили: её не берёт никакая коса, т.е. найти нельзя?. Секрет тут в следу-ющем: такие травы «создавали», а потому их часто называли волшебными. Речь здесь о продуктах на травах, изготовленных по специальной природной технологии. Проиллюстри-руем это на примере: брались три определённые растения и скармливались саранче, кузнечикам, у которых в голове находились железы, куда поступало питание. Затем брались головы насекомых, настаивались на спирту или жиру. Продукт этой незамысловатой процедуры именовался той самой волшебной травой, которую «косой не скосить». Кроме того, важно было не только само растение, но и способы его употребления, что обусловлено теми биологически активными веществами, которые попадают в организм насекомых из растений, служащих кормом'. Для лучшего усвоения использовалось сусальное золото, которое расковывали меж-
Ау двумя кожами до полупрозрачного состояния. Из такого золота, растворённого в ртути, получали амальгамы, добавляя в лекарство на травах. Получался весьма эффективный инструмент, где золото выступало в качестве коня, доставлявшего препараты до каждой клетки, да каждого нервного волокна. Любопытное замечание можно найти в «Дере-венском дневнике» Успенского: в народной среде говорили, что зачастую принимать травы нужно через золото и сере-бро. Здесь как раз имелся в виду тот приём, о котором сказано выше, но известный народник дал следующее поясне-ние: на руках должны быть золотые или серебряные кольца'.
Земский медицинский персонал не мог даже установить болезни, названия которых широко использовались в кре-стьянской среде. Народный язык выработал своеобразные обозначения различных недугов. К примеру, при отёках го-ворили, что «боль кинулась в руки, ноги, лицо», хрониче-скую сыпь определяли так: «простуда наружу повылезла» или «сыпь похоронилась, в нутро ушла». Часто употреблялось выражение «всего разбило», т.е. жалобы на мышеч-ные боли, общее тяжёлое чувство. Похудание обознача-лось словом «исходить» (стал исходить - значит, сильно похудел), кровь называлась рудой, а кожа — шкурой. Распространены народные «диагнозы»: дыханье спёрло, вздох тяжёлый, никак духу не переведу, заложило грудь, в боку ножом порет?. В таких выражениях обыкновенно определя-лось то или иное заболевание.
Всё это наглядно свидетельствует о высокой народной культуре, методично вытравляемой научным официозом и церковью. Они не просто выхолащивали народные навы-ки, но и стремились оторвать людей от природы, прирав-нивая взаимодействие с ней к служению бесам, несмотря на то что окружающая среда в своей совокупности выступала действенным инструментом лечения от различных серьезных недугов. К примеру, при заболевании гепати-том (желтухой) люди использовали обычную речную щуку, о чём не без удивления поведали этнографы?. Щуку выни-мали из воды и подносили к горлу больного, в этот момент у неё срабатывал биологический рефлекс защиты и она на-чинала желтеть. Насыщенный её парами воздух попадал в организм больного гепатитом, т.е. происходила своего рода ингаляция, и вирус у человека уничтожался. В народе говорили, что «твоя желтуха перешла на щуку», а потому наступало облегчение. Чем с научной точки зрения объ-ясняется данный эффект — ещё только предстоит выяснить.
А вот лечение простудных заболеваний (бронхита, аст-мы, ангины, воспаления лёгких) посредством жабы имеет своё обоснование. С лечебной целью жабий яд применяется издавна. Не будет преувеличением сказать, что раньше у наших предков царил так называемый культ жабы (до сих пор существующий в странах Азии), поскольку это млекопитающее считалось необычайно полезным. Оно обладало исключительно стерильной кожей, где не могли закрепиться микробы.
«святые отцы, чай, не на перинах спали». Часто возле умиравшего ставили чашку или блюдце с водой, чтобы душа могла в ней омыться, чтобы в чистом виде явиться в загроб-ный мир*. Перед этой водой, находившейся возле покойни-ка, всегда стояла свеча". Этнографы усматривали в зажига-нии свечи христианские мотивы. Однако дело тут в ином: по колебаниям водной поверхности и отражению их на свете практически безошибочно определяли смерть человека, когда дух колыхнёт воду. Для облегчения кончины расстёги-вали пуговицы, развязывали узлы на одежде и т.п. Проверя-ли, чтобы на умирающем не оставалось ничего скрученно-го, даже шнурок нательного крестика заменяли одинарной ниткой, женщинам распускали косы. Также открывали печь или окно, реже дверь, т.е. избегали замкнутого простран-ства, чтобы душа могла покинуть жилище. Всё это напоминало действия при родах, тогда человек входил в мир, теперь же он покидал его. Если смерть не наступала, то так же, как и при родах, стучали на чердаке, хлопали досками: тем самым пытались как бы напугать душу и ускорить её выход. При обычной же смерти от шума воздерживались, ста-рались не говорить громко. У всех народов после кончины зеркала завешивались или выносились из того помещения, где находился покойник. Чаще всего опасность открытого зеркала объясняли тем, что отражение умершего грозило «удвоением» смерти'. Если уточнить, то зеркало усиливало вибрации, из-за чего могла образоваться стоячая волна, что действительно оказывало бы негативное воздействие. На-помним, что все подобные обычаи сопровождались чтени-ем христианских молитв, в то же время чаще приглашались не священники, а местные знающие. Это лишний раз под-чёркивало: основная масса крестьянского населения не ори-ентировалась на требования церкви?.
С наступлением смерти в обязательном порядке выве-шивалось обрядовое полотенце: оно обозначало путь, куда отправлялся умерший. Изучавшие полотенца исследователи считали, что в них в «законсервированном виде» содержится архаика, отражавшая древнее мировоззрение чело-вечества?. Полотенца, как правило, вывешивали у окон или возле иконы, где они находились в течение сорока дней.
Именно такой срок, по поверьям, душа ещё оставалась среди людей.
. В ритуальном понимании за этот срок душа собирается в «дальнюю дорогу», которая связывает сферы жизни и смерти?. Дорога знаменовала предстоящее переключение не только в иное пространство, но и в иное время?. Причём путь в потустороннее мыслился водным с переправой через реку (былинная река Смородин-ка). Для этого предназначался гроб: у него была символика транспорта, прежде всего водного, ладьи*. Если поздней-шая его форма утратила сходство с ладьёй, то в отдельных местностях (например, в Полесье") ещё продолжали использовать дубовую колоду, напоминающую лодкуб. С отправлением в путь был связан и обряд обмывания покойно-го, который совершали, как правило, женщины в возрасте, что считалось благим делом. Обмывание имело магиче-скую направленность, подразумевая проводы души в потусторонний мир, охрану умершего от нечистой силы?.
Повсеместна традиция похорон в первой половине дня, что имеет свою мотивацию:* мышечные ткани человека в утренние часы наиболее восприимчивы к внешнему.
На похороны не приходили выпившими, вдобавок на кладбище и на поминках пробовали поминальную еду: блины с мёдом, кутью с ягодами, творожные сладости, т.е. всё, что кормит мышечную ткань, поддерживая чувствительность организма. С этих же позиций следует оценивать и действия после похорон: на место, где стоял гроб, забивали гвозди или на некоторое время клали камни, чтобы разру-шить, убрать образовавшиеся в помещении колебания. Стены мыли ветошью, окуривали избу можжевеловым дымом.
В домах, мимо которых следовала похоронная процессия, на подоконники клали железные предметы, чтобы защититься от её энергетики". Когда покойника везли на кладби-ще, то под гроб на телеге (санях) подкладывали два снопа
пример, в период зимнего солнцестояния, когда «предки спят», по ним всё равно устраивались поминки. После со-вместной трапезы люди выходили утром и жгли костры, что было квалифицировано как «греть родителей»: с укоренением христианства ими якобы заменили суеверное почитание домового'. На самом деле поминание в обязательном порядке подразумевало совместное приготовление пищи. В ходе всего вечера (участвовать могло до сорока человек) вспо-минали, хвалили родителей, не допускали ругани. Утром люди выходили на мороз без верхней одежды, поэтому-то и разжигали костры, вокруг которых обогревались. Инте-ресно, что в кострах жгли не дрова, а солому?. Это делалось для того, чтобы не допускать быстрого горения и получать красноватый оттенок (цвет рассвета). В зимнее время просили предков и родителей ненадолго проснуться, дабы через коллективные ветра (вибрации) подпитаться духовными силами на зимушку. Пренебрежение родовой памятью, неисполнение связанных с этим ритуальных действий влекло за собой неодобрение, становилось причиной различных не-взгод: счастье оставляло, несчастье крепко привязывалось?.
В старину культ предков имел и вполне практическое предназначение. Им обосновывали права на определённые территории и ресурсы. Чтобы демонтировать эту естественную систему, требовалось максимально разрушить её сера-цевину.
движимое имущество выводились из разряда выморочно-го, что, собственно, являлось целью усилий церкви, не в по-следнюю очередь озабоченной экономической стороной дела. Теми же мотивами руководствовалось и католичество: незуйты демонстрировали пример овладения любой соб-ственностью, остававшейся после казнённых!. Если на родине капитализма — в европейских странах — прогресса до-стигли достаточно быстро, то у нас это растянулось на более длительный период. Ещё в 1670-1680-х годах дворянство старалось избегать выморочного «добра». К примеру, поместьями погибших наделялись татарские мурзы или недавно крестившиеся, что указывает ещё на небольшой спрос на такую недвижимость со стороны христианской верхуш-ки?. Только при Петре I с мощным наплывом европейцев в российские элиты подобные имущественные предубеждения сходят на нет, чего нельзя сказать о простом населении.
Так, в ходе московских беспорядков июня 1648 года был рас-терзан ряд ненавистных горожанам бояр, а их богатые дома не разграблялись толпой, как можно предположить, а старательно уничтожались: это вызывало немалое удивление иностранцев, у коих такое не укладывалось в голове?. Причём у простого народа понятие «нечистой» собственности
осредством жизни других довершить свой цикл. Если точ-нее, то за этим стоял обмен судьбой, что в данной жизнен-ной ситуации являлось принципиальным для обретения ро-дительского статуса, т.е. продолжения пути. Возвращение после солдатчины сопровождалось специальным обрядом, имитирующим новое рождение, включение вновь в круговую поруку и восстановление прерванных духовных связей. Вот почему люди так держались за общину, чего сегодня не могут уяснить европейски образованные умы. На протяжении веков церкви и государству приходилось ломать, рвать, дискредитировать духовность, сводя назначение общины к первобытным инстинктам, выставляя её пережитком дикости, с коим следует навсегда распрощаться. Европеизированная мысль видела в ней своего кровного врага, который располагает естественно-духовными ресурсами, черпает энергию спасения из глубоких взаимно интенсивных связей . Ослепление общины расчищало место для искусственных цен-ностей, замешанных на индивидуальном благочестии. Сначала через установление личного отношения к Всевышнему при посредстве церкви или без оного. Затем на место общинной сакральности, включающей в себя мир предков, приходит накопление индивидуальных деяний и заслуг перед Господом?. Всеми силами вытравливается чувство, что чело-веческая душа — часть коллективного сознания, а не индивидуальный инструмент для личного спасения. Перед лицом смерти каждый оказывается одинок — в этом закономерный итог западной мысли в её богословских или просвещенче-ских формах. Таково состояние человека в современном мире.